Sтраница Основного Sмысла
Культура давит на человека «чрезмерной массой вещей» и грозит раздавить его (десятая статья «провожатого»)

Предыдущую статью мы закончили мыслью, что основная проблема современной культуры в том, что весь объем составляющих ее артефактов достиг критической массы, полностью несоразмерной уже возможностям конкретного человека осваивать ее, что и приводит человечество на грань, за которой окончательно разрывается связь между человеком и культурой. Сегодня поговорим о том, как это происходит и к чему ведет.
«Там, где это происходит, жизнь останавливается, приближается смерть. Это можно сравнить со специализацией в высокоразвитых обществах, которая, придавая индивиду неслыханную дифференцированность, относительную неповторимость, лишает его этим источника силы, существующего именно при равномерном, еще не одностороннем развитии личности, при наличии запаса общей, еще не исчерпанной в специализации витальности. Если это и не ведет к смерти, то ведет во всяком случае к ослаблению личности, к ее значительному обеднению и беспомощности.  Более того, такая исключительно развитая особая способность человека часто утрачивается и не достигает даже собственной высшей возможности, если она как бы поглощает всего человека и не получает питания от основополагающей, текущей из центра самой по себе еще недифференцированной энергии» (Зиммель Г. Созерцание жизни // Георг Зиммель. Избранное в 2 томах. Т. 2. Созерцание жизни. М., Юрист, 1996. С. 99-100).
Более того, такая исключительно развитая особая способность человека часто утрачивается и не достигает даже собственной высшей возможности, если она как бы поглощает всего человека и не получает питания от основополагающей, текущей из центра самой по себе еще недифференцированной энергии» (Зиммель Г. Созерцание жизни // Георг Зиммель. Избранное в 2 томах. Т. 2. Созерцание жизни. М., Юрист, 1996. С. 99-100).
Культура давит на человека «чрезмерной массой вещей» (Г. Зиммель) и оборачивается к нему той полнотой, которая, как говорит Толстой, грозит раздавить его. «Прослаивание» культуры группами специалистов, экспертов и прочих образованных людей (что и подразумевает Зиммель) создает какой-то каркас, стабилизирует культуру, но на самом деле эти меры могут сохранить культуру лишь в кристаллизованном, замороженном состоянии, где останавливается развитие и дальнейшая жизнь делается невозможной. Это обычно и имеют в виду, когда говорят, что культура поглощается цивилизацией. Суть же дела в том, что культура в форме цивилизации способна удерживать свою устойчивость лишь при условии дробления всего ее массива по кастовым отсекам.
Толстой не хуже Зиммеля видит, в какой тупик ведет этот последний довод цивилизации и все же, в отличие от Зиммеля и других теоретиков кризиса, не только констатирует трагедию современной культуры, но ищет выход и для культуры, и для человека.
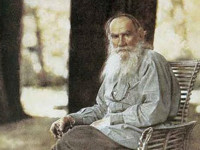 Толстой сознает, что образованные люди — и аристократия, и интеллигенция – все больше утрачивают роль хранителей культуры, превращаются в выродившуюся касту и специализированную элиту, отделяются от простых, необразованных людей, которые, как Герасим, слуга в доме Ивана Ильича – «чистый, свежий молодой мужик», «всегда веселый, ясный», — еще сохраняют природную жизненную силу и непосредственную, простейшую человечность. Герасим с его естественным отношением к жизни и смерти — единственный из персонажей повести, кто проявляет активное участие к Ивану Ильичу; все другие в лучшем случае либо откровенно безразличны, включая врачей, либо лишь маскируют свое равнодушие показной заботой. Иван Ильич
Толстой сознает, что образованные люди — и аристократия, и интеллигенция – все больше утрачивают роль хранителей культуры, превращаются в выродившуюся касту и специализированную элиту, отделяются от простых, необразованных людей, которые, как Герасим, слуга в доме Ивана Ильича – «чистый, свежий молодой мужик», «всегда веселый, ясный», — еще сохраняют природную жизненную силу и непосредственную, простейшую человечность. Герасим с его естественным отношением к жизни и смерти — единственный из персонажей повести, кто проявляет активное участие к Ивану Ильичу; все другие в лучшем случае либо откровенно безразличны, включая врачей, либо лишь маскируют свое равнодушие показной заботой. Иван Ильич
видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходит спать, говоря: Вы не извольте беспокоиться,  Иван Ильич, высплюсь еще»; или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:
Иван Ильич, высплюсь еще»; или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:
- Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? – сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд. (Смерть Ивана Ильича, VII)
«Образованные люди цивилизации» односторонни, несчастны и злы, а «необразованные люди природы» более человечны и добры, лучше понимают, что такое справедливость, достоинство, любовь к ближнему. И потому, заключает Толстой, современный человек должен употребить разум для того, чтобы переместить внимание, научиться смещать смыслы в сторону снижения запросов к жизни, приблизившись к жизненной простоте, как это сделал Пьер и тем спасся.
 …Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму. (Война и мир, Том четвертый, часть третья, XII)
…Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму. (Война и мир, Том четвертый, часть третья, XII)
Однако, если бы в качестве способа преодоления трагедии современной культуры Толстой рекомендовал только опрощение, то он не добавил бы ничего нового к многочисленным рецептам ликвидации ее пороков посредством возврата к ценностям примитивного, но неиспорченного цивилизацией прошлого – рецептам от Лао-цзы, Сократа, Руссо, Уильяма Морриса и многих других, известных Толстому мыслителей.
Толстой продвинулся тут дальше всех, поскольку закономерности жизни культуры и человека он исследует не абстрактно, не в целом, как Зиммель и иные теоретики кризиса, а на примере индивидуальной человеческой судьбы, и это-то как раз и дает необходимую конкретность. «Смерть Ивана Ильича» — квинтэссенция этих поисков. Правда, здесь, как и почти везде у Толстого, дан негативный снимок, но зато столь четко и подробно фиксирующий поломки процесса жизни, то есть отклонения от ее Закона, что это дает надежду на его позитивную формулировку, благодаря которой этих поломок можно будет в дальнейшем не допустить.
Для Толстого несомненно, что умирание Ивана Ильича происходит в результате нарастающего душевного онемения — постепенной утраты способности непосредственно и живо реагировать на мир, откликаясь на него смещением и наращиванием смыслов.
В потоке повседневности мир открывается человеку как совокупность целей в виде предметов заинтересованного отношения, которые, как правило, слабо отделяются от смыслов. После того, как определенные жизненные цели, концентрировавшие вокруг себя жизненные силы индивида, достигнуты, происходит  сдвиг смысла на новые цели, в соответствии с уровнем смысловых запросов человека, то есть согласно степени о-смысленности его отношения к миру. Подвижность этой смыслосдвигающей способности есть некоторое начальное, достаточно нейтральное условие жизнеспособности человека вообще, но у некоторых субъектов она приобретает особое развитие, позволяющее им имитировать жизнь. Ситуацию Ивана Ильича несколько усугубляет то обстоятельство, что он явно не относится к подобным натурам, способным «обманывать» мир, как тот же Стива Облонский или как Шварц, товарищ Ивана Ильича по службе и по игре в карты, — подвижный, неунывающий и игривый. Толстой подчеркивает эту особенность: в одном месте выделяет «игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца», в другом — отмечает, что Шварц раздражал Ивана Ильича «своей игривостью, жизненностью и комильфотностью». В то же время Иван Ильич не имел в жизни и случая, как Пьер, заимствовать откуда-то образцы сниженно-упрощающего отношения к жизни.
сдвиг смысла на новые цели, в соответствии с уровнем смысловых запросов человека, то есть согласно степени о-смысленности его отношения к миру. Подвижность этой смыслосдвигающей способности есть некоторое начальное, достаточно нейтральное условие жизнеспособности человека вообще, но у некоторых субъектов она приобретает особое развитие, позволяющее им имитировать жизнь. Ситуацию Ивана Ильича несколько усугубляет то обстоятельство, что он явно не относится к подобным натурам, способным «обманывать» мир, как тот же Стива Облонский или как Шварц, товарищ Ивана Ильича по службе и по игре в карты, — подвижный, неунывающий и игривый. Толстой подчеркивает эту особенность: в одном месте выделяет «игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца», в другом — отмечает, что Шварц раздражал Ивана Ильича «своей игривостью, жизненностью и комильфотностью». В то же время Иван Ильич не имел в жизни и случая, как Пьер, заимствовать откуда-то образцы сниженно-упрощающего отношения к жизни.
Но главное, Иван Ильич сам выбрал путь душевного онемения, сам редуцировал свою смысловую подвижность, сам «зафиксировал» себя относительно полноты мира. Сознательное уклонение от осмысленного отношения к жизни оказалось роковым – породило рак.
Как же это произошло?
В детстве и юности он обладал всеми присущими молодым людям качествами.
Там было еще кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была дружба, там были надежды. (Смерть Ивана Ильича, IX)
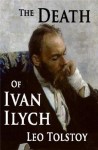 Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении…В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и ощительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными люльми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усвоивал себе их примем, их взгляда на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставляя больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и – под конец, в высших классах – либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывали ему его чувство. (Смерть Ивана Ильича, II)
Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении…В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и ощительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными люльми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усвоивал себе их примем, их взгляда на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставляя больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и – под конец, в высших классах – либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывали ему его чувство. (Смерть Ивана Ильича, II)
В общем, Иван Ильич ничем особенным не выделялся. Лишь одна особенность немного отличала его других – склонность подражать, быть как все. Позднее, став взрослым и самостоятельным, он научился регулировать эту свою способность: если надо, придерживался установки на «тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности», если надо – был «сдержан, официален и даже строг», в целом придерживаясь «приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением» (Смерть Ивана Ильича, II). У князя Андрея, Пьера Безухова, у Наташи эти внешние формы вызывали безусловное отторжение, а Иван Ильич нашел в них опору.
Взросление, поступление на службу, включение в цивилизацию требуют освоения ее формализмов, что и сделал Иван Ильич, с усердием приступив к выстраиванию карьеры.
Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, — все это еще более привлекло его к службе. (Смерть Ивана Ильича, II)
В то же время профессиональные обязанности не стали предметом его исключительного служебного рвения, ибо более всего Иван Ильич ценил возможность жить «легко и приятно». Эта характеристика с некоторыми изменениями неоднократно воспроизводится Толстым при описании «здоровой» жизни Ивана Ильича.
 Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде…(Смерть Ивана Ильича, II)
Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде…(Смерть Ивана Ильича, II)
В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен…(II)
Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично. (II)
Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. (III)
И, несмотря на тщательное исполнение своих служебных обязанностей, центр интересов Ивана Ильича по мере повышения по службе стал явно сдвигаться в частную, непрофессиональную сферу, в которой для него и сосредоточилась настоящая – «приятная», «ненапряженная» — жизнь.
Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. (Смерть Ивана Ильича, III)
Частная же жизнь для Ивана Ильича – это возможность почти полностью исключить какую-либо более-менее содержательную рефлексию, заменив ее простейшими автоматизмами — «беседами с товарищами, обедами и вистом».
Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, — это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой – неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа. (Смерть Ивана Ильича, III)
 Свертывание смысловой подвижности прогрессировало, но Иван Ильич этого совсем даже не замечал, а, наоборот, был уверен, что живет правильно и что жить по-иному просто невозможно.
Свертывание смысловой подвижности прогрессировало, но Иван Ильич этого совсем даже не замечал, а, наоборот, был уверен, что живет правильно и что жить по-иному просто невозможно.
Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился…(Смерть Ивана Ильича, II)
А между тем окончательно выгорала его «природная», доставшаяся от детства, но так и не развитая способность жить о-смысленно, наращивая смыслы.
О том, что жизнь останавливается, свидетельствовало беспричинно возникающее ощущение скуки и какой-то непонятной внутренней пустоты, но принятая изначально установка жить «легко и приятно», не позволяла искать какие-то способы жить по-иному.
В конце концов, весьма рано по средним меркам, все это окончательно парализовало духовную жизнь Ивана Ильича и привело к полной атрофии способности сдвигать смыслы, что и сделало и его психику, и его организм неустойчивыми относительно даже малой полноты мира. Как следствие, небольшой жизненный успех в виде прибавки к жалованью исчерпал какой-либо смысл его дальнейшего существования. Для «необразованного» Герасима с его ограниченностью запросов к жизни такое снижение смысловой подвижности не было бы опасно, но для Ивана Ильича, человека «образованного», встроенного в высокую культуру, оно закономерно привело к фатальному финалу. Мир навалился на него и убил его, хотя этот напор обнаружил себя не извне, как обычно, а изнутри – в виде разрастающихся опухолевых самостей. Ивана Ильича раздавила та самая масса культуры, о которой писал Зиммель.
Тем не менее, ситуация, безнадежная для Ивана Ильича и безвыходная для Зиммеля, выглядит не столь пессимистично, если рассматривать ее в свете того Закона Жизни, поиски которого составляют суть творчества Толстого.
Есть два основания, на которые опирается Толстой, приближаясь к раскрытию Закона Жизни.
Первое. В начале жизни Ивана Ильича, как и каждого человека, все-таки было что-то здоровое и живое: детская непосредственность, острота восприятия, интерес, воображение, любопытство, любовь, отсутствие лжи – была Жизнь, которая потому и могла убывать, что была в начале.
Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом. (Смерть Ивана Ильича, IX)
То есть изначально была некая неразвитая еще способность откликаться на мир, был росток радостного и удивленного отношения к нему, что свидетельствовало о наличии способности к наращиванию смыслов, способности жизни. И хотя Толстой не сомневается, что люди – разные, что у каждого – собственный, неповторимый жизненный путь, он в то же время уверен, что исходный потенциал детства в равной степени дает всякому человеку возможность самостоятельно распоряжаться жизнью – прожить ее осмысленно и продуктивно.
детства в равной степени дает всякому человеку возможность самостоятельно распоряжаться жизнью – прожить ее осмысленно и продуктивно.
Эта детская природная гармония – несомненная ценность для Толстого и первое основание его мировоззренческого оптимизма.
Другое базисное основание – сама культура. Хотя и в своих художественных произведениях, в публицистике и в нравственной философии Толстой ожесточенно обличает и бичует лживость и бесплодность высокой, «образованной» культуры как в ее государственных, ретроградных, так и в ее либеральных, «позитивных» и «позитивистских» формах в пользу простой, «необразованной» культуры, на деле он признает большую значимость первой, несмотря на ее официальный характер. В самом деле, нельзя не признать, что духовный мир Андрея Болконского, Пьера Безухова, Константина Левина или даже (потенциально!) Ивана Ильича все же в чем-то выше, чем питающиеся запросами простого выживания интересы болконских или левинских крестьян, Каратаева или Герасима. Оленину, герою «Казаков», тому же Левину, Безухову, несмотря на все их усилия, не дано стать на уровень простых людей, потому что люди высокой культуры обогащены теми смыслами, до которой люди низкой культуры еще не дошли в силу недостаточного развития культуры и неверного устройства цивилизации.
В «Анне Карениной» есть ряд эпизодов, где  Левин, после неудачного сватовства к Кити Щербацкой возвращается в деревню и, переживая «тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру», пробует отыскать себя, свой путь среди простого народа. Левин однажды даже входит в резонанс с внешней, подхватывающей Силой – силой не грозной, массивной и слепой, как в иных ее явлениях у Толстого, а доброй, гармоничной и подвижной; происходит это в знаменитом эпизоде на покосе (Анна Каренина, Часть третья, V), когда сливается с крестьянами в едином ритме тяжелого, но здорового физического труда.
Левин, после неудачного сватовства к Кити Щербацкой возвращается в деревню и, переживая «тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру», пробует отыскать себя, свой путь среди простого народа. Левин однажды даже входит в резонанс с внешней, подхватывающей Силой – силой не грозной, массивной и слепой, как в иных ее явлениях у Толстого, а доброй, гармоничной и подвижной; происходит это в знаменитом эпизоде на покосе (Анна Каренина, Часть третья, V), когда сливается с крестьянами в едином ритме тяжелого, но здорового физического труда.
Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этою жизнью, но … нынче Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь.
Все, что он передумал и перечувствовал, разделялось на три отдельные хода мысли. Один – это было отречение от своей старой жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему не нужного образования. Это отреченье доставляло ему наслажденье и было для него легко и просто. Другие мысли и представления касались той жизни, которою он желал жить теперь.  Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему не представлялось. «Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это? – опять спрашивал он себя и не находил ответа. (Анна Каренина. Часть третья, XII)
Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему не представлялось. «Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это? – опять спрашивал он себя и не находил ответа. (Анна Каренина. Часть третья, XII)
Однако стоило Левину через несколько часов после этих мыслей столкнуться с Кити, которая, не заметив его, проехала мимо в карете, как вся прелесть «опрощения» бесповоротно меркнет в глазах Левина.
И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те решения, которые были взяты им, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке. Там только, в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете, там только была возможность разрешения столь мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни.
«Нет, — сказал он себе, — как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней». (Анна Каренина. Часть третья, XII)
Левин – второе Я Толстого – в глубине души понимает, что попробуй он жить, как крестьяне, его никто не поймет, ни люди его круга, ни крестьяне, которые будут высмеивать такой поступок как барскую причуду. А женись Левин на крестьянке, вышло бы совсем плохо – случилось бы в конце концов то, что случилось с князем Андреем в его смертельной «любви» к Наташе.
«Перепад культур» невозможно преодолеть, двинувшись назад, к «природной простоте» — в прошлое, в традиционность, в патриархальность, вынужден признать Толстой. И это его признание, сделанное силой художественных образов, обладает убедительностью более весомой, нежели сознательное обличение им пороков цивилизации в публицистических произведениях и позднейших философских трактатах. Но, если так, то остается один путь – путь в высокую культуру. Как это сделать? Об этом мы будем говорить в следующей статье.

Владимир Рыбин,
доктор философских наук


